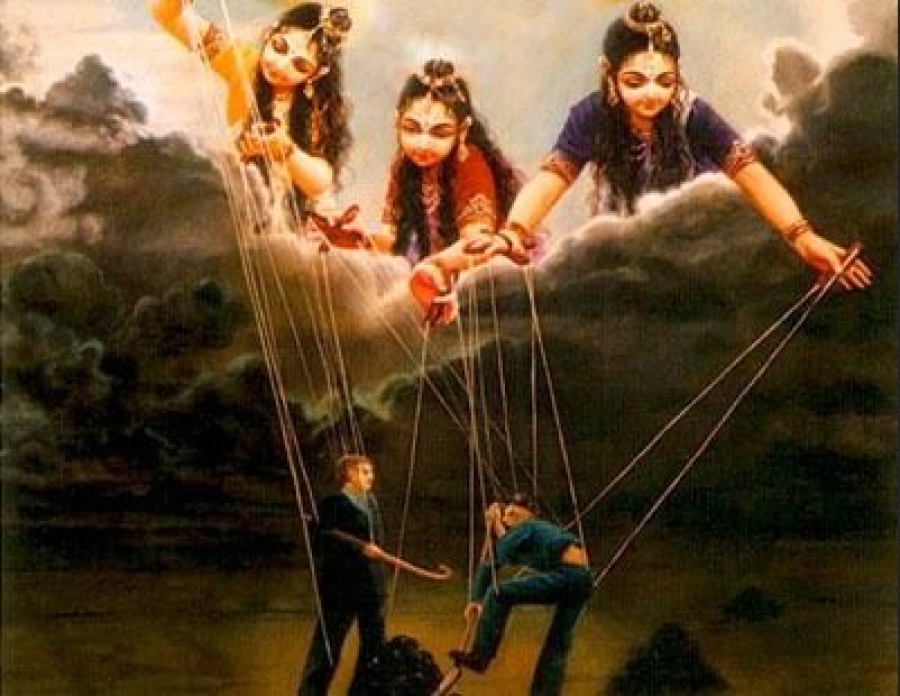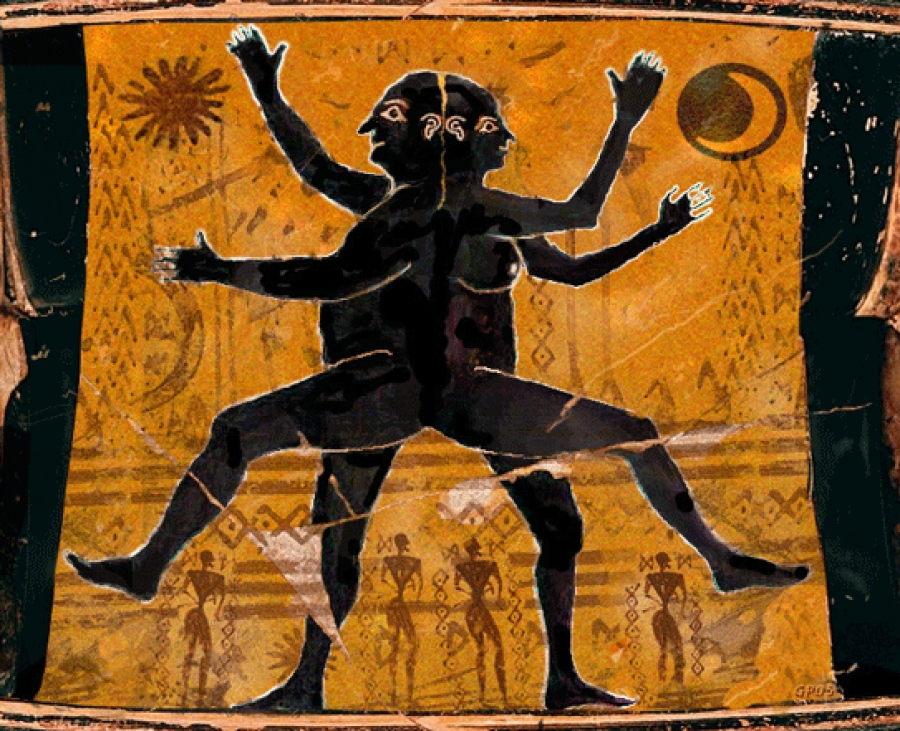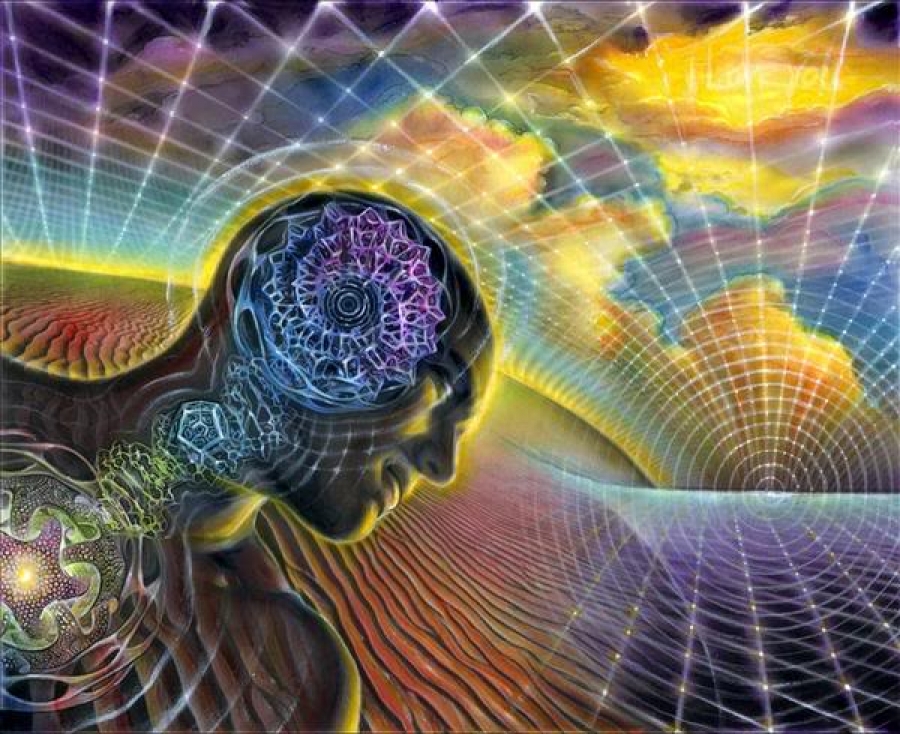Люди вокруг нас

Как-то в моем Живом Журнале появилось в комментариях мнение, что, мол, вне города энергии нет. Там, вне города, мол, все мертво, все в апатии. Это, мол, здесь, у нас — люди вокруг, мобильники, интернет, техника всякая, а поскольку сейчас техника энергию аккумулирует, и магия вся наша технична, то жить, работать, колдовать в городе еще можно, а уж на природе — ни-ни. Не получится. Впадешь в апатию, в прострацию, превратишься в зверика и поминай как звали.
Мне показалось, что так думают многие люди мегаполисов. Упорное заблуждение их преследует, что весь мир живет так же, как они, следует тем же традициям, преследует те же цели и шевелится в том же ритме. Кто-то даже говорил, что, мол, при таком развитии Интернета, как сейчас, традиционные культуры, несомненно, быстро изменятся, потому что — ну как же, а взаимодействие между людьми? Все, мол, взаимодействуют и идут «в ногу со временем». Ну, мы же говорим по асе, электронной почте, сайты разные умные читаем. Ну да, все маршируем строем оловянных солдатиков. И не приходит человеку в голову, что таких, как он, — с компьютером то есть, а уж тем более, с Интернетом, — в мире меньшинство.
Деревня – удивительное место. Наверное, она удивительна для меня, просто потому что я «дитя асфальта». Здесь можно разговориться с любым, кто попадается тебе по дороге, даже не зная, как его зовут. Я иду по дороге в ближайшую деревню — за хлебом. Со мной поравнялась старушка, идущая в ту же сторону. Мы здороваемся, хотя ни разу друг друга не видели, и начинаем разговаривать. Про то, как она раньше, еще в совке, ездила в Москву за колбасой. Про то, как мои родители стояли в очередях за сметаной. Я иду по лесу с Данькой. Навстречу идет мужчина, с корзиной грибов. Поравнявшись, мы здороваемся, останавливаемся — и долго говорим про засолку грибов. Вы в городе такое — часто видите? А ведь это — нормально для человека.
Мальчишка, заехавший на велосипеде в нашу деревню, назвал мне свою деревню, номер дома, квартиры и фамилию своей семьи. Девушка, с которой мы разговорились в Никологорах в Сбербанке (у нас в коляске Данька, с ней – две девчушки, двух и трех лет), оказалась давней жительницей нашей деревни – «Как Ваши собаки поживают?» В никологорском магазине продуктов, куда я заглядываю в третий раз, Даньке первым делом выдают мармеладку, а через пару минут разговора выясняется, что продавщица — невестка нашего соседа. Того самого, чьими руками был создан манеж, в котором Данька обитает. Я там чуть бананы не забыла.
И много всего такого… Тетя Катя, соседка, которая помнит, какого цвета у Айлена глаза. Вы помните, какого цвета глаза у вашего соседа по лестничной площадке? Нет. А здесь, в деревне, помнят. Вот что удивительно для городского жителя. Хотя, наверное, это и есть нормальное состояние для человека.
Первый вопрос, который задается здесь случайным встречным – «Вы откуда?» (то есть из какой деревни). Второй – «Чьи вы?» (какой дом, кто ваши близкие).
Нету в городе этого – «чьи вы». В городе – все ничьи.
В городе то и хорошо считается, что можно затеряться. Сам по себе, ничей, никто не знает не то что чужой истории, но даже своей. А значит, можно создать себе любую, принять любой облик.
Почему это так привлекает?
Говорят, в деревне жить устаешь от того, что все про всех все знают. Все на виду, живешь, как за стеклом. Не скрыться. Если про тебя знают что-то «странное» или «плохое» — то переезд не спасет. Это в городе достаточно переехать в другой район, и тебя не найдут и не вспомнят. Но люди жили именно в деревнях, общинами, родами на протяжении тысячелетий – и не уставали как-то. Потому ли, что не было альтернативы?
Может быть, потому, что для того, чтобы к тебе изменили отношение те, кто хорошо тебя знает, видит тебя каждый день, нужно измениться самому, изменить свое поведение. В городе же есть выход: изменить круг общения, и тогда кажется, что изменения произошли, хотя на самом деле ты остался прежним. В городе проще спрятаться, стать тем, за кого ты хочешь себя выдавать: достаточно переехать в другой район и сменить круг знакомых, и ты уже — вроде бы, другой человек. В деревне не спрячешься, и маски, которые ты надеваешь, вряд ли кого-то обманут. Недостаточно переехать в другую деревню, чтобы все забыли, кто ты есть на самом деле, что умеешь и чего не умеешь. В деревне труднее спрятаться не от других — от себя. Потому что, когда мы меняем место жительства и личины в городе, мы не других пытаемся обмануть, — а только себя, пытаемся поверить в то, что сменив внешнюю обстановку, волшебным образом переменились и стали другими людьми. Если твой круг общения тебе не верит, достаточно сменить знакомых и перед новыми знакомыми отыграть по новой то, что не прошло перед прежней аудиторией. И — верят же.
Мы опасаемся знакомиться с соседями — а вдруг они узнают о нас слишком много, и это заякорит нас, повлияет как-то на нашу жизнь? Вы — знаете тех, с кем вы живете на одной лестничной клетке? Знаете, сколько у них детей? Вряд ли. Ведь тогда соседи эти станут настоящими — частью нашего мира, а мы не хотим принимать в этот мир кого-то «случайного»: вдруг он ненароком этот мир изменит? Ведь мы всего-навсего пытаемся быть независимыми от этого мира за пределами, четко нами определенными. А для этого мы стараемся никуда не высовываться из своей норы. А потом, в ночи, читаем в ЖЖ дневники тех, кто интересно пишет. Вы заметили, что мы очень любим читать дневники тех, кто общается с другими людьми? Узнаем о других, не вылезая за пределы собственной норы. Ухватив кусок, тащим его к себе, вовнутрь, чтобы там, внутри, обставить нору так, как будто это и есть целый мир. Не нора — музей. Только, не резиновая же она, нора эта. Треснет однажды, по швам рассыпется, как домик Ниф-Нифа.
Знаете, что меня больше всего удивило в деревне и без чего так трудно жить теперь? Там люди смотрят в глаза. Ты можешь встретиться взглядом с прохожим, случайным встречным, и он не отведет взгляд, а, скорее всего, поздоровается, даже если ты его не знаешь. Так принято не только в деревне, во многих местах, где редко встречаешь случайного прохожего. Мы с Девон, девочкой из городка в Коннектикуте, куда я ездила по обмену лет так в пятнадцать, как-то шли по национальному парку: она повела меня посмотреть. Навстречу ехал велосипедист. «Привет!» — сказала она. И он ответил: «Привет!» «Ты, что, его знаешь?» удивилась я. «Нет, не знаю… у нас тут так принято». Но да, в том городке можно было идти час и никого не встретить. И машины были средством первой необходимости — без машины там даже до школы быстро не доберешься.
В большом городе смотреть в глаза — неприлично. Те, кто приезжает в Москву, удивляются — почему люди в глаза не смотрят? Я объясняла: «Потому что людей слишком много. Они слишком устают. Каждый раз, когда ты смотришь другому в глаза, ты ему что-то даешь, какую-то информацию, и ему эту информацию надо переварить. А люди вокруг нас устали. Они не могут переварить так много. Поэтому смотреть в глаза считается неприличным: ты будто посягаешь на чужую территорию».
«Здравствуйте!» — выводила я, завидев кого-то на деревенской улице. Полное, долгое — «здравствуйте». Вот я сбегаю по лестнице городского дома: «Здрасьте!» — быстро-быстро, произнести надо за секунду. Потому что некогда.
Когда мы только-только вернулись в Москву, я повела Даньку в поликлинику, на ежегодный осмотр. Очередь в регистратуру. Спокойная, как удав, я пристраиваюсь в хвосте очереди. Вот одна мать ругается в окошко: «Вы мне говорили, что сегодня будет врач! Я притащилась!! Вы говорите, что его нет!!!» Отлетает от окошка. Следующая женщина, туда же, в окошко: «Как??? И почему я должна ждать??? ГДЕ ТУТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ???» Отлетает. Доходит очередь и до меня. И когда я, узнав, что и в моем случае молоденькая, новенькая девушка-регистратор ошиблась, вместо спокойного «Ну ладно, подойду в другой раз» (а мне подойти в другой раз — не проблема) открываю рот для громкого «ох….еть!!!», я понимаю: я вернулась в город.
«Почему москвичи такие нервные?», удивлялась в деревне знакомая женщина, которая сама приехала в Москву на заработки из Саратова и волею судеб оказалась там же, под Владимиром. «Почему они такие дерганые?» Да потому, что жизнь в таком ритме — вообще-то, ненормальна для человека, только мы этого не осознаем. Вот я смотрю на темную улицу — шесть часов вечера, уже темно, и мое внутреннее чутье подсказывает мне: нужно спокойно заняться чем-то своим, не торопясь и не суетясь, потому что завтра будет еще один день, а сегодня солнце уже село, и мое тело это чувствует. Но улица за окном кишит. Едут автобусы, легковые машины: все полны людей, люди вокруг нас торопятся, опаздывают — кто куда. Солнце уже село, световой день закончен, сейчас наступает зима — время долгой ночи. Мы не уважаем эту ночь. Мы не можем ее уважать, мы вынуждены ей постоянно противостоять, доказывая себе и ей, что наши планы, графики, назначенные встречи и недоделанные дела важнее, чем смена времен года. Мы находимся в постоянном противостоянии, в постоянной борьбе, выигрывая скорость: еще быстрее, еще быстрее, еще… Нет времени, чтобы сказать «здравствуйте» полностью. Нет времени, чтобы остановиться и поговорить со случайным встречным. Нет времени на то, чтобы поинтересоваться им и его жизнью.
Нам часто кажется, что и незачем это — с кем-то случайно встреченным говорить. Зачем? Что ты можешь от него узнать? Такой своеобразный снобизм. Но ведь место, где ты живешь, становится твоим, когда знаешь его историю. А история складывается из них — из людей, которые жили и умерли в этих местах, из маленьких и больших происшествий, из рассказов о том, кто как солит грибы и кто еще держит корову. В деревне без этого вовсе не прожить — не поговорив, не узнаешь, у кого еще есть корова и где можно брать молоко, не найдешь хорошего плотника и печника. Мы же все привыкли в Яндексе искать.
Но ближайший детский сад я все равно нахожу через соседку по дому, с которой остановилась поговорить. А продавец в овощном ларьке всучивает мне укроп и петрушку за так, потому что деньги я оставила дома, а мелочи в кармане неожиданно не наскреблось. И продавщица видео-дисков в переходе, едва завидев меня, кричит: «Нету, нету, везде искали — не нашли!»: она помнит и меня, и тот диск, который я уже долго ищу. И это вселяет в меня уверенность, что и в городе можно жить, если на несколько секунд остановиться и — просто поговорить.